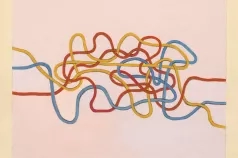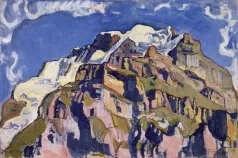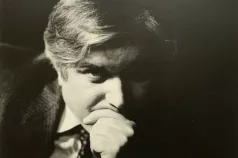Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что мы любим представлять книги современных писателей в форме интервью с ними – это позволяет не только сверить собственное прочтение с авторским, но и лучше раскрыть для вас личность данного автора. Так же мы планировали поступить с романом Сергия Жадана, которого еще в 2014 году называли Сергеем, тем более, что уже не раз о нем писали. К сожалению, не получилось: Сергий отказался дать интервью на русском языке. В первый момент мы захлебнулись от возмущения: как же, мол, так?! Потом расстроились, ведь интервью – это, прежде всего, диалог, а каждое не состоявшееся интервью – это упущенная возможность услышать друг друга и, возможно, найти точки соприкосновения. А потом задумались: вправе ли мы судить Сергия из своего офиса в Женеве, пока он, в Харькове, пишет, говорит, устраивает литературный фестиваль, собирает деньги на протезы своим покалеченным согражданам? Нет, не вправе. Да и вообще, судить писателя надо только по его книгам, а «Интернат» – книга особенная, прочитать ее необходимо всем «нам».
Рискуя вызвать неудовольствие Сергия Жадана, скажем, что написана она, на наш взгляд, в лучших традициях гуманистической русскоязычной литературы, заложенных Гоголем: большая трагедия показана глазами маленького человека, представителя самой что ни на есть мирной профессии – 35-летнего школьного учителя Паши, учителя украинского языка, на котором сам он говорит лишь на уроках, в «жизни» общаясь на своем родном языке, русском. Глазами «маленького человека», кажущегося слабым и беззащитным, но, по мере развития действия, обретающего героические черты.
Дело происходит в 2015 году, на Донбассе, и об описываемых событиях автор знает не понаслышке, ведь он сам оттуда, из Старобельска в Луганской области, после начала боевых действий на востоке Украины весной 2014 года оказавшегося в прифронтовой зоне. (Ну как тут не вспомнить «Старобельские рассказы» Юзефа Чапского – так и лезут в голову литературные ассоциации!) Война, пока еще не перетекшая за государственные границы, уже создала границы внутренние, и одна из них пролегла совсем рядом со скромным жилищем Паши у железнодорожной станции, постоянно вторгаясь в его ничем не примечательную жизнь : у него не слишком любимая работа, нищенская зарплата, инвалидность, непутевая сестра, неудавшаяся личная жизнь, пожилой и почти глухой отец, для которого, как и для многих людей его поколения, «телевизор стал вечным огнем». Именно с его слов, вернее, с его обращенного к Паше крика «Иди за ним!» и начинается роман.

За кем, «за ним»? Да за Сашкой, племянником Паши, которого мамаша/сестра сдала в интернат, и вызволять которого оттуда отправляется главный герой. Путешествие в расположенный в том же городе, рукой подать, интернат и обратно занимает те самые три дня, в которых – вся новая жизнь. Как же кардинально изменилась она для Паши за совсем короткий срок: «Прошло полтора года. Никому теперь не нужны вечерние занятия. Дети разбрелись. Марина от него ушла. Учитель труда оказался по ту линию фронта».
Сначала вместе с Пашей, а затем с Пашей и Сашей читатель пробирается сквозь тьму и туман по разрушенному, изуродованному городу, натыкаясь на обломки техники, чьи-то брошенные вещи, трупы… Вместе с ними он отсиживается в холодном подвале, спасается от стаи бродячих собак, прячется от военных, озирает разграбленный мародерами интернат, замирает перед надвигающимся Т-64, сливается с толпой – растерянной, озлобленной, промерзшей, изнемогающей толпой, говорящей на смеси двух языков, не понимающей уже, где «ваши» и где «наши», да и не пытающейся этого понять – см. «Белая гвардия» Михаила Булгакова! – и стремящейся лишь к одному: к теплому убежищу. «Холод лишает чувствительности руки и лицо, оставляя лишь одно желание – как можно быстрее добраться до теплого места. Пусть даже без света и воды, только бы не холодного, только бы обогреваемого». Как, читая эти строки, не думать о предстоящей зиме?
«Вы привыкли всю жизнь прятаться. Вы привыкли считать, что вы – ни при чем, что всегда найдется кто-то, кто все за вас уладит, все решит. Нет, никто не уладит, никто не решит. Не на этот раз. Потому что вы все видели и все знали. Но вы молчали, вы ничего не говорили. Конечно, судить вас за это не будут, но не рассчитывайте на добрую память потомков».Вместе с главными персонажами читатель «общается» с женщинами и детьми, с меняющимися «начальниками» станции, с военными с «той» и с «другой» стороны, с иностранным корреспондентом, для которого, по большому счету, их трагедия – просто спектакль. И мы уже не удивляемся тому, что в самые критические моменты именно в «маленьком человеке» Паше вдруг просыпаются лидерские качества: именно он, единственный джентльмен в группе, помогает женщинам и старикам идти по ночному городу; он, представившись «представителем общественности», добивается, чтобы голодных людей на вокзале покормили; он подворачивается под руку хирургу в полевом госпитале и, поторговавшись с собственной смертью, держит оперируемого без наркоза бойца – двадцатилетнего, совсем мальчишку. Глядя на него, и другие начинают вспоминать, что они – люди. Но что чувствует в эти моменты сам «маленький человек»? «Сердце его сжимается, голова кружится, его пошатывает. Он пытается встряхнуться. Ему кажется, что внутри его, вот уже два дня, – стальная пружина, которая растягивается, большая и холодная. Она растягивается постоянно, каждую минуту, каждую секунду. Растягивается до предела. Растягивается, давя на грудь, мешая дышать, не пропуская воздух». Вот, что он чувствует, преодолевая животный страх.
Война – главная, всеобъемлющая тема романа «Интернат». Но параллельно с ней развивается и тема глобальной безответственности и глобальной же ответственности: когда не виноват никто, виноваты все. В роди традиционного для русской литературы Юродивого-обличителя выступает директор интерната Нина, сама в нем выросшая. Именно из ее уст читатель получает суровый приговор: «Вы привыкли всю жизнь прятаться. Вы привыкли считать, что вы – ни при чем, что всегда найдется кто-то, кто все за вас уладит, все решит. Нет, никто не уладит, никто не решит. Не на этот раз. Потому что вы все видели и все знали. Но вы молчали, вы ничего не говорили. Конечно, судить вас за это не будут, но не рассчитывайте на добрую память потомков».
Еще одна важнейшая тема в романе – это дети. Вместе с Пашей мы переживаем его муки совести из-за того, что когда-то он не воспротивился отправке Саши в интернат и что не забрал его раньше. Осознаем, как важно для каждого ребенка знать, что его любят, что его поймут и защитят, что его никогда не предадут и не бросят – а ведь все мы остаемся детьми, пока живы наши родители. Осознаем, какое необратимое разрушительное действие оказывает на «не вовремя родившихся» детей война, заставляющая их вне срока повзрослеть: не зря последние страницы романа написаны от имени Саши – чудесного, мудрого, сильного, любящего, заботливого. Взрослого.
К облегчению читателя все для Паши и Саши заканчивается хорошо – они добираются до дома. Дома, который «пахнет чистыми простынями». Запахом мира. Но это, напоминаем, лишь прелюдия.
От редакции:
Роман «Интернат» С. Жадана в русском переводе Елены Мариничевой вышел в издательстве Меридиан Черновиц, Черновцы, в 2017 г.
И еще информация для поклонников Сергия Жадана: 25 октября, в рамках Книжной ярмарки во Франкфурте, ему будет вручена Премия мира немецких книготоргоцев, а 23-25 ноября он будет в Париже, где примет участие в литературном фестивале "Уик-енд на Востоке", гостем которого в этом году станет Одесса.