Эмилия Кустова и Ален Блюм: «История показывает, насколько будущее непредсказуемо!» | Alain Blum et Emilia Koustova : « L'histoire nous montre à quel point l'avenir est imprévisible ! »
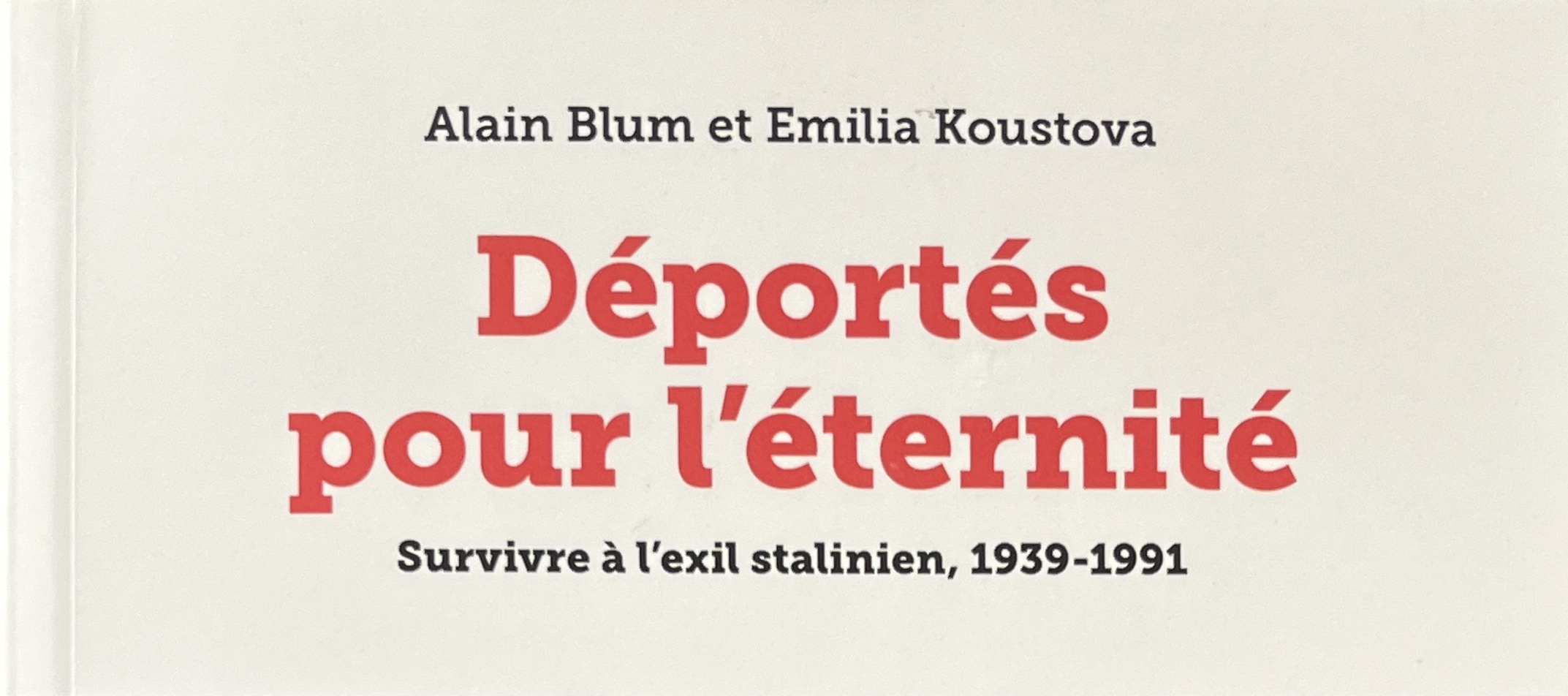
Авторы часто присылают в редакцию Нашей Газеты свои книги – как художественные произведения, так и научные исследования. К сожалению, мы не в состоянии уделить внимание всем, поэтому отбираем те, которые, на наш взгляд, способные вызвать наибольший интерес у наших читателей.
Авторы исследования «Высланные навечно. Выжить в сталинской ссылке, 1939-1991 гг.» Ален Блюм (ведущий сотрудник французского Национального института демографических исследования) и Эмилия Кустова (профессор университета Страсбурга) пишут в предисловии к книге: «Война, развязанная Россией против Украины, вернула к жизни старых демонов советских репрессий.» Что сразу задает тон и делает очевидным первый вопрос, на который, как и на все последующие, авторы отвечали вместе.
Почему вы решили поднять эту тему именно сейчас?
Эмилия Кустова и Ален Блюм: Эта книга является результатом проекта, начатого в 2008 году со сбора интервью. Тогда мы поняли, как важно записать свидетельства очевидцев, пока все они не ушли из жизни. Мы также поняли, как важно рассматривать эти депортации как исторический момент, затрагивающий всю Европу, в то время как история сталинских репрессий часто рассматривалась как история, касающаяся только бывшего советского пространства, далекого и чуждого. Тот факт, что институциональная Европа, Европейский Союз, находилась в процессе расширения, делал интеграцию этого прошлого и его памяти неотложной задачей.
Можно ли говорить о различиях в подходах (и в интерпретации исторических событий) между вами – французом и русской? Были ли моменты разногласий в ходе работы? Как она была организована?
Мы оба – французские историки, получившие историческое образование в традиции школы «Анналов». Эти общие интеллектуальные корни привели к тому, что в целом у нас были общие подходы, один и тот же взгляд на историю. Конечно, наш социальный опыт в юности был разным, один жил во Франции, другая в советской и постсоветской России. Историк не может полностью отделиться от своей личной и семейной истории, которая в случае Эмилии была отмечена различными репрессиями и частичным замалчиванием трагического прошлого; эта история, несомненно, повлияла на постановку ею некоторых из вопросов. С другой стороны, мы оба стали свидетелями того, как в конце 1980-х годов начал открываться доступ в архивы и произошел радикальный пересмотр официальной версии истории. Каждый из нас проживал это по-своему: изнутри советского общества для Эмилии Кустовой, а для Алена Блюма – в качестве молодого французского исследователя, который начал свой путь историка с погружения в московские архивы советской статистики. Эти разные исходные ситуации привели к одному и тому же результату: каждый из нас испытал желание лучше понять советский XX век, показав его во всей его сложности, жестокости, со всеми его парадоксами.
Позже, в начале 2010-х годов, наше знакомство с литовскими и украинскими архивами, несомненно, изменило наш взгляд, независимо от нашего происхождения. Мы начали работать, сначала каждый в отдельности, а затем вместе, над историей сталинских депортаций, которую мы стремились воссоздать, используя различные подходы, источники и углы зрения. Для нас было важно, чтобы это была история, запечатленная в голосах свидетелей и в полицейских архивах, увиденная сверху, и снизу, в масштабе советского государства и на уровне одного хутора или семьи. После того как мы сформулировали этот проект, работа протекала вполне гладко: у нас были общие интерпретационные рамки и много общих вопросов, к которым иногда добавлялись вопросы, шедшие от одного из нас, вытекавшие из его исследовательского или личного опыта. Так, Ален Блюм привнес в этот проект навыки демографа и статистика, а также интерес к индивидуальным траекториям и их встраиванию в пространство, в то время как Эмилия Кустова была особенно внимательна к материальной среде и повседневной жизни ссыльных.
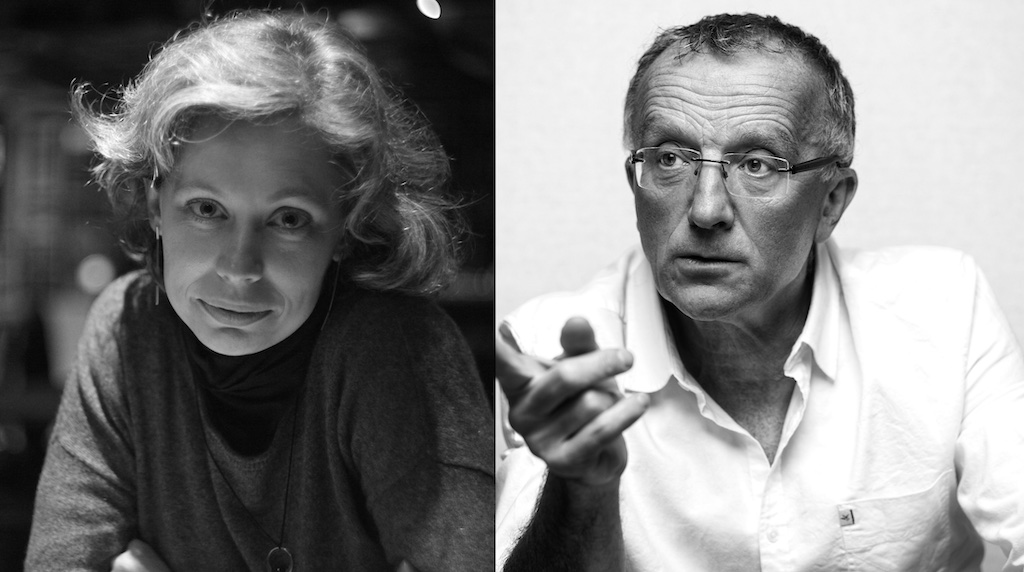
Эпиграфом к книге вы взяли знаменитую цитату из рассказа Наума Клеймана «Он не сказал, что мы были сосланы пожизненно. Он сказал, что мы были сосланы навечно. Они думают, что они хозяева вечности!» Как вы познакомились с Наумом Клейманом, которого чаще упоминают в контексте кинематографа, чем в политико-историческом? Какое впечатление он произвел на вас как человек?
Такие встречи относятся к числу приятных неожиданностей в научной работе. Я (Ален Блюм) узнал о судьбе Наума Клеймана от Ирины Черневой, коллеги из французского Национального центра научных исследований (НЦНИ), занимающейся советским документальным кино. Мы также были знакомы с его дочерью, переводчицей во Французском университетском колледже в Москве, которая и познакомила нас. Встреча с Наумом Клейманом стало настоящим открытием, и интервью с ним, записанное Ириной Черневой и мной (Аленом Блюмом), врезалось в нашу память, настолько Наум Клейман был увлекательным, невероятно искренним и человечным. Он был известнейшим специалистом по Эйзенштейну, и мы встретились с ним в квартире-музее режиссера, что еще больше усилило эмоции.
Вы сочувствуете перемещенным народам, но лишь вскользь упоминаете роль литовцев и украинцев в истреблении евреев. Почему?
Как исследователи мы видели своей задачей скорее не выразить сочувствие, а написать историю, которая затрагивала бы человеческое. Что касается вашего вопроса, то история истребления евреев – это, естественно, огромная, важнейшая тема, и вопрос об участии населения Украины и Литвы, конечно, является ее частью. Но, как мы в этом убедились, занимаясь принудительными переселениями, она не связана напрямую с этими депортациями. Сталин начал первую волну репрессий на аннексированных территориях после заключения пакта Молотова-Риббентропа в 1940-1941 годах, до Холокоста, и эти депортации затронули евреев балтийских стран и Западной Украины наравне с этническими литовцами, латышами, украинцами, поляками. В абсолютном большинстве случаев массовые переселения, проводившиеся Советским Союзом после войны, не были связаны с военным прошлым, а являлись частью борьбы с антисоветским восстанием и принудительной коллективизацией сельского хозяйства в балтийских странах и в Западной Украине.
Сегодня история Холокоста в Украине и Литве динамично развивается благодаря тому, что в этих странах – в отличие от Российской Федерации – исследователи имеют свободный доступ к архивам. Мы имеем в виду, в частности, архивы СБУ в Украине и Специальный архив Литвы (LYA). Мы, кстати, тоже работаем над этими вопросами, о чем свидетельствует, например, статья Эмилии Кустовой, опубликованная в Revue d'histoire de la Shoah. В другой недавней статье мы затронули тему репрессий, проводившихся советским режимом против литовских евреев, выживших в Холокосте. Эти вопросы также находятся в центре моих (Эмилии Кустовой) текущих исследований в Литве.
Вы говорите (с. 61) о «смене ярлыков», которая продолжается и по сей день. Считаете ли вы, что Запад должен был более активно реагировать на героизацию Бандеры и Петлюры в Украине, чтобы лишить Путина этих «козырей»?
Прежде всего, мы не считаем, что Путин нуждался в этой героизации, чтобы навязать свою риторику ненависти к Украине и оправдать военную агрессию. Не было бы Бандеры, он нашел бы что-то другое или ограничился бы упоминанием угроз со стороны НАТО, продолжая при этом фальсифицировать историю Второй мировой войны и ее последствий в своих интересах.
Несомненно, написание истории Украины, особенно в условиях начавшейся в 2014 году агрессии со стороны России, отчасти сопровождается поиском героев, как это было во многих странах в XIX-XX веках, когда там создавались свои варианты так называемого «национального романа» – рассказа о славном историческом прошлом, призванного способствовать консолидации нации. Как и везде, в современной Украине для этого процесса характерно стремление сохранить только героический аспект, в данном случае участие этих исторических личностей в борьбе за независимость, замалчивая возможные темные стороны. Независимо от того, что еще делали эти люди, нельзя, разумеется, смириться с прославлением тех, кто был причастен к Холокосту и любым массовым преступлениям, кто бы ни был их зачинателем: нацистский или сталинский режим, националистические движения или колониальные империи. Одна из задач исторических исследований заключается в том, чтобы пролить свет, при необходимости резкий, на все их действия, в том числе и те, что противоречат героическим и порой избирательным нарративам, характерным для национального исторического романа. Здесь следует подчеркнуть, насколько активны украинские историки в своем стремлении по-новому осмыслить историю своей страны, опираясь на самые серьезные исследования и не боясь затрагивать темные стороны. Не менее невероятную работу проводят и архивисты, поддерживая эти усилия в условиях ежедневных российских атак и обстрелов.
Что касается позиции европейских стран (мы предпочитаем избегать понятия «Запад», которое не соответствует реалиям сегодняшнего мира и кроме того активно используется российской пропагандой для навязывания идеи «столкновения цивилизаций»), то мы считаем, что лучшим ответом является проект интеграции Украины в Евросоюз и поддержка проевропейских сил внутри страны, которые защищают демократические ценности и стремятся вглядываться в прошлое своей страны, свободно обсуждая его и не боясь увидеть более сложную картину, чем ту, что предлагают правые радикалы. Невозможно пытаться извне принести «правильное» историческое знание, но важно делать все, чтобы поддержать тех, кто внутри страны ставит своей задачей серьезное, критическое, честное изучение и обсуждение истории.
Процесс десталинизации в России далек от завершения, скорее наоборот. Как вы это объясните?
Этот процесс, вероятно, не зашел достаточно далеко в наиболее благоприятный для такого переосмысления прошлого момент, в 1990-е годы. Несмотря на важнейшую работу, проделанную представителями гражданского общества, в первую очередь активистами «Мемориала», и талантливыми историками, из-за отсутствия реальной политической воли он не был ни достаточно систематическим, ни достаточно глубоким, чтобы затронуть – причем с участием заметной части общества – самые болезненные вопросы, касающиеся ответственности российского государства, в том числе перед другими нациями и не-русскими этническими группами. Писать собственную историю, отмеченную большим насилием, всегда сложно и требует времени (посмотрите, как сложно даётся Франции написание истории колонизации и деколонизации). Трудности увеличиваются, порой становясь непреодолимыми, когда на пути этой работы возникают политические препятствия.
В России оставалось сделать еще очень много в этом направлении, когда здесь вновь возник авторитарным режим, который вернулся к нарративу великой державы со славным прошлым. С 2000-х годов написание истории, прославляющей победу над нацизмом, сопровождалось реабилитацией, а то и прославлением Сталина, при этом все преступления сталинского режима оставались все больше в тени. Персонализация власти свойственна всем авторитарным режимам, подобному тому, что выстроил Владимир Путин. Для укрепления своей власти он в том числе прибегает к героизации тех или иных исторических персонажей, чтобы представить себя в качестве их наследника и, подобно Сталину, создать себе образ живого «великого лидера». С началом агрессии против Украины в 2014 году, а затем и противостояния с «коллективным Западом», образ которого сфабриковала российская пропаганда, этот ревизионистский процесс ускорился, в том числе в контексте все более широкого использования репрессивных мер.
Как вы отреагировали на открытие памятника Сталину на станции метро «Таганская» в Москве 15 мая 2025 года?
Мы не были по-настоящему удивлены, учитывая тенденцию, которая началась задолго до этого. Так, несколько лет назад на одном из выходов со станции «Курская» была размещена цитата Сталина под предлогом восстановления ее первоначального вида. Но даже если это не стало полной неожиданностью, эффект от этой новости страшный.
Историки не любят предсказывать будущее. И все же, как вы представляете себе конец войны в Украине?
Как вы сказали, мы не предсказываем будущее. Дело даже не в том, нравится нам это или нет. История показывает, насколько будущее непредсказуемо! Мы стараемся черпать в этой непредсказуемости немного оптимизма, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию. Мужество, которое демонстрируют миллионы украинских гражданских лиц и солдат на протяжении более трех лет, обязывает нас к надежде. Мы должны верить в победу Украины. И должны быть бдительными перед лицом роста крайне правых сил в Европе, которому способствует Россия. Есть риск, что попытки дестабилизировать единую Европу, которые являются одной из явных целей Кремля, могут частично увенчаться успехом, в то время как нам всем, как никогда, нужна сильная, свободная Европа, способная противостоять ультраконсервативному дискурсу, отрицающему социальные изменения последних десятилетий, и любым формам возрождения колониализма или империализма.
Многие специалисты, посвятившие свою жизнь России – ее истории, культуре и т. д., – сегодня чувствуют себя преданными и говорят, что будущее России их мало интересует. А вас оно интересует? Каким вы его видите? Думаете ли вы, что однажды русский народ прервет свое оглушительное молчание?
Чувствуем ли мы себя преданными? Мы не думаем, что это слово подходит. Когда-то мы начали работать над историей, полной насилия. Сегодня мы видим, что она продолжается, сметая надежды, которые возникли в конце 1980-х годов и которые мы тогда разделяли со столькими русскими, украинцами, литовцами, казахами, армянами. Мы с грустью и возмущением (это слово недостаточно сильно) наблюдаем за тем, как рост авторитаризма и крайнего консерватизма сделали возможным безграничное насилие в отношении Украины и ее населения.
Будущее России, конечно, интересует нас – точно так же, как волнует нас будущее Европы, Украины, Литвы. Как историки мы на протяжении уже многих лет интересовались этими двумя странами, Украиной и Литвой, участвуя в тенденции к децентрализации, о которой сегодня много говорится среди исследователей. Такая децентрализация, а точнее, смещение взгляда от центра к тому, что считалось ранее периферией, необходимо для написания истории, которую нельзя было бы использовать для прославления имперского и колониального прошлого.
Что сказать о русском народе или, вернее, о населении России? Прежде всего подчеркнем, что оно было и есть неоднородно. Начиная с середины 1980-х годов часть общества активно высказывалась и участвовала в новой динамике, вынуждая власти пойти гораздо дальше в направлении демократизации, поначалу крайне робкой. Когда, напротив, судьбу страны взял в свои руки авторитарный режим, развивающийся в сторону ультраконсервативной диктатуры, на передний план вышла, без сомнения, другая часть общества, которая сегодня способствует этому оглушительному молчанию.

